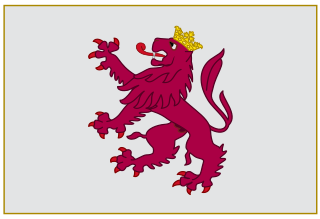http://polit.ru/article/2013/08/17/dolbilov/Британский опыт в Индии всегда был на слуху и на виду у российских администраторов, и особенно с 60-х годов ссылки на него становятся таким хорошим тоном в аналитических записках бюрократов. Общий тон был такой, что мы не выбиваемся из правила, мы не звери и мы даже лучше других, в Индии вон что творится, какое там было жестокое подавление знаменитого сипайского восстания! Вот это не совсем пустая риторика. Действительно, имперские управленцы присматриваются, что-то берут, что-то используют как риторический опыт, и в любом случае Российская империя оказывается в каком-то общем поле имперских проблем. На более конкретном уровне, на уровне практической политики, мне кажется, соседство Пруссии, затем уже Германского рейха, новосозданной бисмарковской Германской империи и соседство Австрии, а с 1867 Австро-Венгрии (все-таки, применять это название к более раннему периоду до создания Двойной монархии некорректно) было определяющем. Да, смотрели на Британию, смотрели на Францию, на Османскую империю, но на уровне управленческой ткани принципиальными были прусское и австрийское соседства.
Если суммировать, неизбежно упрощая, этот имперский опыт, то можно сказать, что Пруссия и Австрия служили двумя альтернативными моделями политики. С Пруссией связывалась, особенно начиная с бисмарковской эпохи, успешная ассимиляторская политика гомогенизации. Я употреблю это кошмарное слово. Лесков использовал слово «уединоображивание», мне оно очень нравится. Это прусское уединоображивание, и дискурс был примерно такой: пруссаки молодцы, вот немецкая аккуратность, немецкая методичность, немецкая последовательность, куда нам там до них! И на этой же волне рождались такие полунеформальные проекты, обсуждавшиеся в 60-е годы: половину Царства Польского, наиболее крепкий орешек для российской ассимиляции отдать Пруссии, Бисмарку, пусть он там продолжит свою политику и прекрасно справится, а мы оставим поляков пожиже, послабее, помягче и что-то с ними сделаем. Подобный дискурс проявлялся даже в подступах к практической политике.
Австрийская политика связывалась больше с принципом «разделяй и властвуй». И она официально всегда больше осуждалась. Австрийский эксперимент поощрения этнической самобытности, создания культурно-этнических анклавов и поощрений местных языков, образование на местных языках, на польском, на чешском, на украинском (русинском, как его называли) в Галиции – вот эта политика всегда официально осуждалась.
Австрия вообще была, особенно после наполеоновских войн, хотя и союзником, но она в имперском дискурсе была неудачником, такой смешной, нелепой, еще и коварной, хитрой, таким двуличным неудачником. Это очень хорошо видно в «Войне и мире». Толстой писал в 60-е годы, после Крымской войны, когда еще на Австрию добавилась дополнительная обида за ее враждебный нейтралитет. Он проецировал такое презрение к Австрии на начало XIX века, когда отношение еще не так сформировалось.И вот эта этническая политика, создание конгломерата территорий, каждая управляемая на своем особенном базисе из центра и в значительной доле автономная – эта политика всегда официально отвергалась, но что интересно: на практике имперские власти все-таки пытались экспериментировать, и использовать какие-то элементы этого поощрения самобытности.
Упрощая, можно сказать, что доминирующей моделью была прусская. Хотели быть как пруссаки, как германцы, это был своеобразный идеал. Опять-таки, это не противоречит тому, что я сказал вначале: о том, что некая изначальная модель России все-таки была однородной, гораздо более монолитной, чем империя была в действительности. Все-таки мало кто жил с комфортным чувством, взглядом на все это безбрежное, расползшееся многообразие. Инстинктивно хотелось простоты и уединоображивания, но поскольку из имперской администрации трезвые головы никогда не исчезали, они понимали ограниченность управленческих, административных, денежных ресурсов, необходимых для этого.
Австрийская политика, эта политика баланса и лавирования, политика уравновешения одной этнической группы другой казалась привлекательной, очень сложной, невыигрышной с точки зрения идеологии, потому что было очень трудно совместить подобную политику с репрезетацией самодержавия, но отдельные ее элементы находили какое-то применение.
Скажем, в Западном крае, в Ковенской губернии пытались поощрить литовскую идентичность и самосознание в противовес полякам. Задача там формулируется с определенной оглядкой на австрийский опыт Галиции.
( Read more... ) ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) rodom_iz_tiflis в Записки на полях: три Лиона, два Дижона
rodom_iz_tiflis в Записки на полях: три Лиона, два Дижона